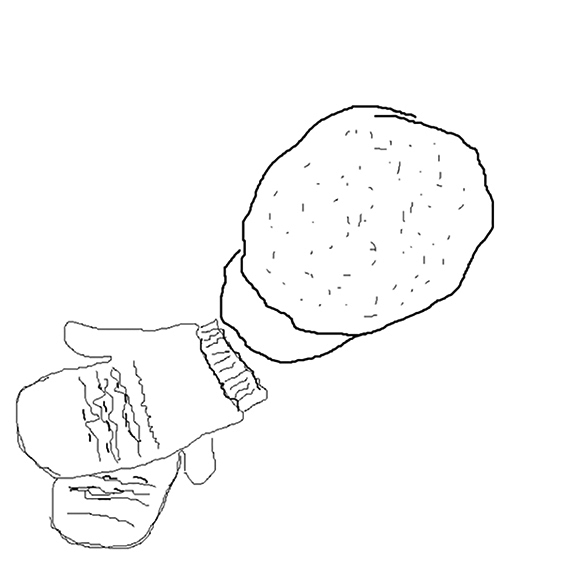Владимир Усейнов
Ансамбль «ИСКАТЕЛИ». Слева направо: Орлов И.Ю., Васильев Г.П., Захаров В.Г., Усейнов В.Я., Цимринг Е.Е.

Владимир Яковлевич Усейнов

От автора
Владимир Яковлевич Усейнов родился 27 июня 1946 года в городе Москве. В этом же году переехал с семьёй в город Пензу. В 1953 году пошёл в первый класс восьмилетней школы № 27. После окончания восьмилетки перешёл в десятилетнюю школу № 4, которую закончил в 1963 году. В этом же году начал работать токарем на заводе ВЭМ. В Советскую Армию не призывался по состоянию здоровья, но армейской жизни хлебнуть пришлось: в начале 1964 года я сдал экзамены и стал курсантом Вольского интендантского училища, из которого сбежал через три месяца, перед самой «присягой». Это краткосрочное пребывание в армии ещё больше отвратило меня от службы в ней. В 1965 году поступил на вечерний факультет Пензенского политехнического института. По несчастливой случайности в 1971 году ушёл из института по собственному желанию с 4-го курса с незаконченным высшим образованием. Потом много работал. Но не в том смысле, что «пахал», хотя было и это, а в том, что сменил множество рабочих мест и профессий. Был я и токарем, и водителем мотороллера и мотоцикла, и продавцом отдела радиотоваров, и рубщиком мяса, и техником электротехнического отдела проектного института «ГИПРОМАШ», и мойщиком автомобилей, и директором маленького завода, и охранником, и…, и…, и….
Почти у всех людей нормальная трудовая книжка в одном экземпляре. У меня же целый трудовой роман из двух трудовых книжек, заполненных полностью вместе с вкладышами. Таких в эпоху социализма называли обидным словом «летун». Хотя прославленный поэт революции Максим Горький в своей жизни «в людях» был, по сути, тем же летуном, но к нему почему-то это не относилось.
Слава Богу, что параллельно с этой огромной, тяжёлой и, подчас, никому не нужной и нудной работой, была у меня одна всепоглощающая страсть – любовь к музыке, которую я пронёс через всю жизнь. С 1953-го по 1960 год – кружок баянистов в городском Доме Пионеров. С 1962 года – участник ВИА «Искатели» (ударные инструменты). Затем художественная самодеятельность института «ГИПРО-МАШ», участие в различных конкурсах, шефские концерты на ударных стройках и на селе, работа в городском молодёжном клубе «Данко», на главной танцевальной площадке города в Центральном Парке Культуры и Отдыха имени Белинского, в городском Доме Офицеров.
И, наконец, с 1976-го по 1989 год – профессиональная работа в центральных ресторанах города Пензы – «Пенза» и «Сура». С 1989-го по 2006 год работал предпринимателем – председателем кооператива по ремонту автомашин «Престиж». С 2006 года по настоящее время – пенсионер.
Моей маме, Артюховой Марфе Харитоновне,
самой прекрасной и удивительной,
самой близкой и родной ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Вместо предисловия
Это было в те ещё благодатные времена, когда чиновники горисполкома не гнушались дружить и помогать друг другу в ремонте квартир и в других бытовых делах. Помощь эта обычно заканчивалась хорошим застольем.
Отец мой в то время служил главным архитектором нашего славного города. Попал он в него по направлению из столицы. Выдали ему с семьёй временную квартиру с печным отоплением без всяких удобств на третьем этаже дома дореволюционной постройки, правда, в центре города, в которой он тихо и мирно скончался через каких-то двадцать лет.
А мог бы папА этот не самый худший период своей жизни прожить в более интересном городе, чем Пенза, потому как в столице предложили ему на выбор ещё два города: Одессу и Новосибирск. Заканчивался 1946 год. Последнее слово было за мамой и она, ссылаясь на переписку со своей дальней знакомой из Пензы, твёрдо сказала – «Только Пенза, её не бомбили!». Это обстоятельство не помешало ей долгое время оставаться грязной и чёрной провинциальной дырой.
Квартира наша, со слов мамы, представляла собой ужасное зрелище: входная дверь, тамбур в полтора метра шириной и дальше одна огромная комната размером с баскетбольную площадку. Сходство с ней усиливал высоченный, больше 4-х метров, потолок, украшенный безвкусной, но массивной лепниной. По стенам и потолку, с еле заметными следами побелки, затейливо вилась наружная электропроводка на блестящих, как ёлочные игрушки, фарфоровых роликах-изоляторах.
Из противоположной входу стены выступал, с претензией на изящество, покрытый жёлтой глазурью камин, почему-то с отверстием для дров сбоку, а не по центру. У правой от входа стены и немного вглубь стояла обыкновенная печь с чугунными конфорками, духовкой и шестком, на которой можно было готовить. В углу у печки высилась огромная, почти до потолка, груда земли, строительного и бытового мусора, в которой копошилось, всё в лохмотьях, живое существо неопределённого пола. Куда оно потом, после уборки мусора, подевалось, родители нам не уточнили.
Полы были из некрашеных досок неимоверной толщины, рассчитанных на долговременное выскабливание их ножом при мытье. Из мебели было всего четыре предмета, которые как нельзя, кстати, подчёркивали спартанский вид и дух квартиры: огромный канцелярский стол, похожий на бильярдный, также покрытый зелёным, изъеденным молью, сукном, но без бортов. Односпальная канцелярская кушетка из коридора присутственных мест, обитая чёрным дерматином и с одним откидным валиком. А также два кокетливо изогнутых жёстких стула, которые из-за древности нельзя было идентифицировать ни с одним из известных по стилю представителей их семейства, тоже списанных из какой-нибудь канцелярии.
Жили мы, по рассказам мамы, и как я сейчас понимаю, на первых порах очень весело, и от безудержного веселья меня спасало, наверное, моё крайнее малолетство: по приезде в Пензу мне стукнуло аж три месяца. Спали мы так: я с отцом на шикарном столе, мама со старшей сестрой девяти лет на полужёсткой кушетке.
Вот эту-то комнату-квартиру по прошествии нескольких лет решено было разделить двумя перегородками и сделать кухню с печкой, прихожую и две комнаты. Одна из перегородок была двойная, засыпная до потолка, другая, между комнатами, одинарная, похожая на ширму.
На возведение капитальной перегородки были по обычаю приглашены начальники почти всех отделов горисполкома: торговли, транспорта, культуры и т.д. Пока мужчины строили, мама занималась ритуальным обедом, который был не шикарен, но очень вкусен и прост со своими домашними разносолами: бочковыми огурчиками, помидорами и капустой. Конечно, такой обед был немыслим без бутылочки-другой обыкновенной русской водки. Кстати, надо отметить, что отец мой практически не пил – самая большая его доза во время любого застолья – три сорокаграммовых рюмки и ничто не могло заставить его выпить четвёртую. Иногда, после командировки, с усталости перед обедом он с удовольствием пропускал одну рюмочку чего-нибудь крепкого, чаще всего коньяка, бутылочка которого всегда хранилась у нас в буфете.
Перед обедом-угощением дети были накормлены и отправлены в другую комнату. Тогда не принято было, чтобы дети сидели за столом, где выпивают и едят взрослые гости. И священнодействие началось…
Через много лет, когда мы стали уже взрослыми, мама, очень интеллигентный человек, успевшая поработать корректором в московском книжном издательстве и библиотекарем в «Ленинке», рассказала мне, что больше всего поразило её на том обеде.
В разгар обеда встаёт начальник отдела культуры г. Пензы, наливает всклень гранёный стакан водки, берёт в руку солёный огурчик, залпом опрокидывает в себя стакан, смачно хрустит огурцом и выдыхает:
– Люблю, Блять-Культуру!
– И это сказал самый культурный человек в городе – говорит, не переставая удивляться, мама!
Несчастные рядовые работники культуры, у которых такой предводитель!
Городские сумасшедшие
Это не город без общегородских сумасшедших – это захолустье какое-то. Всякий уважающий себя город должен иметь хотя бы одного знаменитого сумасшедшего. Слава Богу, наша Пенза имела аж пятерых сумасшедших, известных всему городу: Сёма, Володя-Ду-Ду, Саша-Морковка, Коля-Свисни и Люба-Дура.
Люба-Дура – моложавая, довольно крупная особа женского пола, одетая под деревенскую дурочку. Непонятного покроя пальто или зипун, подпоясанный широким поясом, высокие чёрные сапоги или валенки и не снимаемый ни летом, ни зимой, наглухо завязанный серый платок. Ходила она резкими длинными шагами, широко размахивая в такт ходьбе руками и туловищем. Со стороны казалось, что это большая неведомая науке птица, страстно смотрящая, вытянутая вперёд и клюющая носом воздух перед собой. Она постоянно громко говорила как бы сама с собой, однако вся её путаная речь предназначалась случайным прохожим.
Коля-Свисни был простой советский сумасшедший. Добродушный, нелепо одетый малый, с удовольствием и мастерски свистевший за деньги всем, кто его ни попросит. За двадцать копеек он целовал прохожих женщин по просьбе платящего, которые шарахались от него, как от чумного.
Саша-Морковка – небольшой, востроносый, симпатичный, очень чистый и всегда опрятно одетый молодой человек. Пока он не начинал говорить, нельзя было подумать, что он тоже достопримечательность нашего города, тоже сумасшедший. Выдавала его, правда, одна нелепая страсть: любовь к женским ридикюлям, один из которых он всегда носил с собой.
Самым известным и знаменитым в городе сумасшедшим был, конечно, Сёма. Среднего роста молодой мужчина неопределённого возраста и спортивного телосложения. Говорили, что он «чокнулся», усиленно занимаясь математикой в институте. Вроде перезанимался. Не знаю, как было на самом деле, но из всех сумасшедших он был самым умным. Очень любил Сёма в женских и мужских залах ожидания в банях выразительно и взахлёб читать историческую, художественную и научную литературу. В те времена, чтобы попасть в общественную баню, надо было отстоять в очереди часа три-четыре, а то и пять, особенно в выходные дни. Очереди были всегда. Сердобольные граждане, ждущие омовения, снисходительно слушали и давали Сёме мелочь за его усердие.
Сёма позирует… Вглядываясь в будущее…


Здесь уместно сделать небольшое отступление. Проштудировав перед написанием этого рассказа двухтомный «Справочник практического врача» 1952 года издания, я не нашёл там ни болезни, ни диагноза – «сумасшествие». Мы всегда думали и считали, что сумасшедшие есть, что делятся они на буйных и тихих. Буйные поддаются лечению, а тихие нет. Буйные до выздоровления находятся в психбольнице, а тихие спокойно живут среди нас. И вот на тебе – сумасшедшие есть, а болезни или диагноза нет! Может быть, простонародное «сумасшедший» врачи называют каким-нибудь мудрёным латинским словом?
Не знаю, но только знаю точно, что наряду с основным психическим заболеванием болел Сёма и манией чистоты. До денег он не дотрагивался никогда. Деньги от населения брал только в бумажный пакетик, говоря каждому «спасибо». Почти каждый день он ходил в баню. Займёт один кран и моется около него часа два, никого не подпуская к личному крану. Потом выстирает всю свою одежду, включая кепку или зэковскую шапку-ушанку и кеды или резиновые боты. Одежда его и зимой, и летом состояла из ярко-красной рубашки, парусинового пиджака и брюк. После бани натянет на себя только выжатую, но не просушенную одежду и обувь и выскакивает на улицу в любое время года. Бывало, что выскакивал в 30–35-градусный мороз. От него пар валит, а он бегом за какой-нибудь машиной или автобусом. Всё высыхало на нём, а он никогда и ничем не болел. Здоровье надо было иметь лошадиное. Он и говорил про себя, что он – конь. Лошадей любил самозабвенно, не пропускал ни одних скачек на местном ипподроме. Частенько бегал в заездах по кругу рядом с лошадьми.
Мог себе Сёма позволить и то, чего не делали остальные сумасшедшие: на центральной улице Московской, на газоне, напротив областного театра драмы, сняв штаны, сходить по малой и большой нужде. Ну, на то он и сумасшедший, чтобы жить естественно.
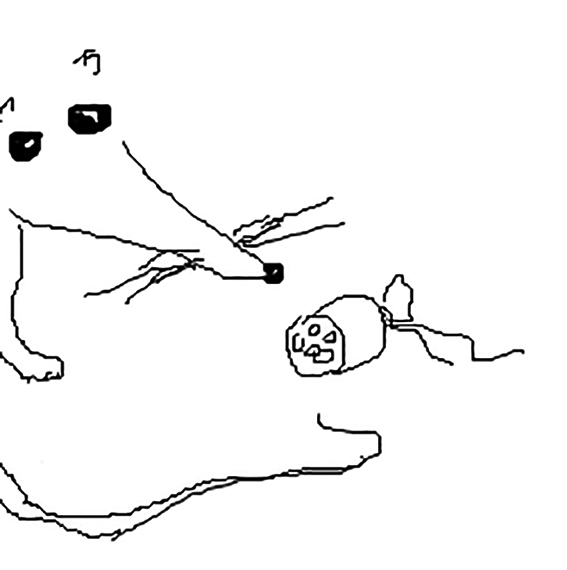
Некоторые злые люди, считавшие себя шутниками-остряками, завидев Сёму, кричали:
– Сёма! Крысы!
И хохотали над тем, что Семён, заткнув пальцами уши и сплюнув, быстренько убегал.
Вообще людям свойственно глазеть на себе подобных, например, на обезьян. Пообщавшись с обезьяной или сумасшедшим, обыватель подспудно начинает чувствовать себя благороднее, выше, умнее. А зря. Ни обезьяна, ни сумасшедший, в отличие от человека, не способны на «подлянку». А иногда от сумасшедшего можно услышать такую умную мысль, какую не всякий признанный умник выдаст.
Вот, к примеру, Володя-Ду-Ду, живший в соседнем дворе. Мне с ним, как с соседом, приходилось общаться довольно часто. В те советские времена стояли мы от нечего делать на улице Московской возле своей подворотни: на людей смотрели и себя показывали. Частенько подходил и Володя-Ду-Ду со своими наставлениями и поучениями. Любил он поучать окружающих как надо жить. Был он высокий, худой, не молодой мужчина, лет за сорок. Опрятно одет. Чувствовалось, что за ним кто-то ухаживает, наверное, мама, потому что жены у него не было. На голове и зимой, и летом одна и та же тёплая драповая кепка. Под кепкой огромная лысина, обрамлённая причёской «под Ильича».
Выходит как-то из соседней «Пирожковой» женщина и жуёт прихваченные с собой пирожки. Володя перегибается сзади через её плечо и говорит громко в ухо:
– Много кушать вредно!
Бедная женщина чуть пирожком не подавилась.
Однажды я спросил у него, почему он даже жарким летом носит тёплую кепку. Ответ был неожиданным:
– Когда я кепку снимаю на улице, – отвечал Владимир, – у меня мысли фьюуть и улетают вверх.
При этом он левой рукой снимал кепку, а правой с вытянутым указательным пальцем закручивал спираль над головой в виде перевёрнутой воронки. Какой же я не догадливый. Это же так просто. Он кепкой мысли придерживает, чтоб не разлетелись.
– Знаешь, что у меня здесь в голове творится? – продолжает Володя.
– Не знаю, – отвечаю я, – а ты объясни.
– Да не могу я объяснить! Вот тебе бы это туда!
И тычет своим пальцем мне в голову.
– Ой, только этого мне туда не надо, – с опаской отвечаю я.
Как-то спросил я его:
– Ты почему не женишься?
А он мне сразу в крик:
– Будет она мою пенсию пропивать!
Одним прекрасным летом уговорили мы Володю устроиться грузчиком в магазин «Молоко», который находился напротив наших дворов. Неделю он поработал, вторую. Смотрим, через пару недель опять торчит у подворотни. Я спрашиваю:
– Ты чё не работаешь?
– Да бросил я эту работу! Ну их к лешему! Они там все люди культурные: им всем по утрам руки надо пожимать. А я этого терпеть не могу.
Однако в магазине «Молоко» он постоянно ошивался и до, и после своей кратковременной работы. Наверное, вёл умные беседы с продавщицами. Они его тоже любили, как любят на Руси юродивых, и подкармливали иногда.
Однажды подходит Владимир ко мне с бумажным кульком в руках и говорит:
– Угощайся, сосед.
Из кулька идёт изумительно одуряющий запах мясных копчёностей. Заглянул я в кулёк. Ой-ё-ёй. Там обрезки разных колбас, окороков, рёбер. Все свеженькие, все с верёвочками.
Я отвечаю:
– Спасибо, Вовочка. Я сыт.
– Ну и зря, а я поем.
И с этими словами достаёт за верёвочки обрезки из кулька и тщательно обгладывает их.
– Ты где раздобыл колбасные деликатесы? – спрашиваю я.
– Зашёл я в молочный магазин, подошёл к кассе и говорю кассиру:
– Пробейте мне чек на колбасу, а деньги не даю. Нет денег. Она пробивает и даёт мне чек. А на чеке четыре одинаковые цифры.
И сложив два указательных пальца в виде римской цифры десять показывает: раз, два, три, четыре.
– Я беру чек, отдаю его в колбасный отдел. Продавщица вот и наложила мне колбасных изделий.
– Это замечательно, Володя, что продавщицы бесплатно отпускают тебе колбасу.
Всем бы так. И был бы обещанный коммунизм. А вместо коммунизма пришли мы к непонятным и поганым временам. Неизвестно какая страна, какой строй. От такой жизни пропали все общегородские сумасшедшие, а новые не появились. И это уже не город – без сумасшедших.
Хотя, как знать! Не превратились ли они все в городское начальство?
Как знать! Как знать!